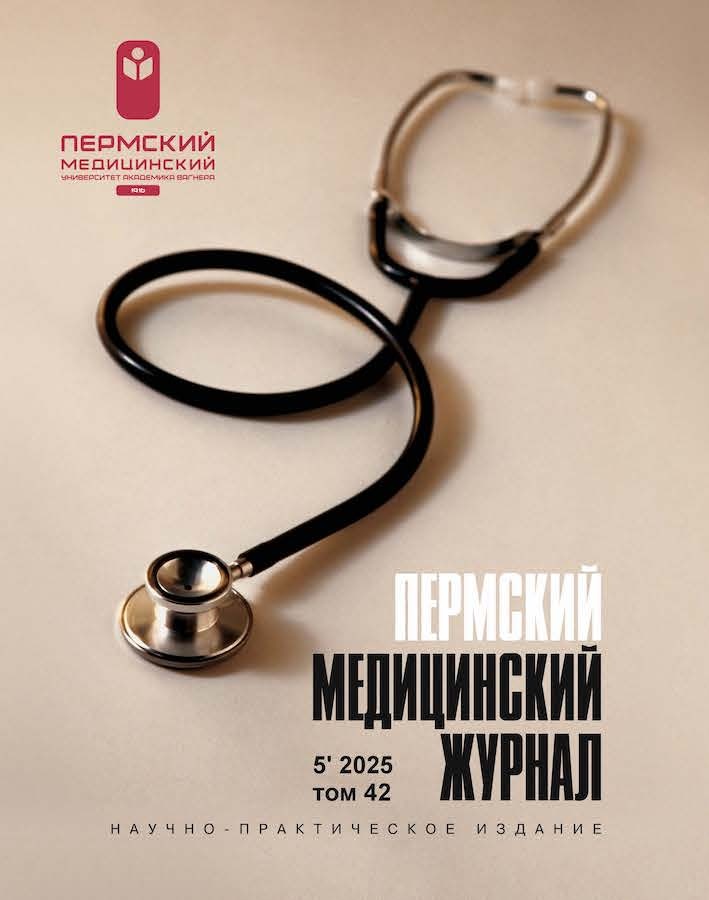Неблагоприятный прогноз больных с длительным постковидным синдромом и предикторы его развития
- Авторы: Масалкина О.В.1, Козиолова Н.А.1
-
Учреждения:
- Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
- Выпуск: Том 42, № 5 (2025)
- Страницы: 66-79
- Раздел: Оригинальные исследования
- Статья получена: 15.09.2025
- Статья опубликована: 14.11.2025
- URL: https://permmedjournal.ru/PMJ/article/view/690343
- DOI: https://doi.org/10.17816/pmj42566-79
- ID: 690343
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель. Оценить частоту неблагоприятных событий у пациентов с длительным постковидным синдромом и определить предикторы их развития
Материалы и методы. Проведено двухэтапное проспективное клиническое исследование. Первый этап представлял одномоментное скрининговое исследование, в котором в течение трех лет в соответствии с критериями включения и невключения было выделено 305 больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию (НКВИ) 3 месяца назад и более: 200 – с длительным постковидным синдромом, 105 – без симптомов длительного COVID-19. Второй этап представлял собой проспективное наблюдательное исследование, в течение которого фиксировались все смертельные события и госпитализации больных, включенных в исследование с ретроспективной оценкой данных. Для определения предикторов неблагоприятного прогноза пациенты с длительным постковидным синдромом (n = 200) в конце исследования были разделены на две подгруппы в зависимости от прогноза: в первую подгруппу было включено 85 больных, у которых были зарегистрированы неблагоприятные события, во вторую – 115 человек без неблагоприятных событий за период наблюдения.
Результаты. Период наблюдения больных в исследовании составил 24,6 [12,4; 47,7] месяца. Среди 200 больных с длительным постковидным синдромом было выявлено 89 неблагоприятных клинических исходов у 85 (44,5 %) пациентов, в группе пациентов без длительных симптомов COVID-19 среди 105 обследуемых – у 22 (21,0 %) человек зафиксированы 22 события. Анализ выживаемости не показал статистически значимых различий по частоте наступления смертельных событий между группами. Частота госпитализаций, а также частота объединенного показателя смертности и госпитализаций были статистически значимо выше в группе больных с постковидным синдромом. Определено, что развитие длительного постковидного синдрома у больных, перенесших НКВИ, увеличивает ОР необходимости в госпитализациях в 2,110 раза, смертельных исходов и госпитализаций – в 2,197 раза. Предикторную ценность развития неблагоприятного прогноза у больных с длительным постковидным синдромом продемонстрировали показатели, отражающие тяжелое течение НКВИ в острой фазе, полисимптомность длительного постковидного синдрома, симптомы тревоги, депрессии, нарушения когнитивных функций, наличие определенной коморбидной патологии и факторов риска без отягощенного анамнеза до верификации длительного постковидного синдрома, ремоделирование сердца и артерий с высоким миокардиальным стрессом, неспецифическое воспаление, фиброз и апоптоз.
Выводы. У пациентов с длительным постковидным синдромом регистрируется высокая частота развития неблагоприятных клинических исходов, составляющая 44,5 %, связанная с увеличением потребности в госпитализациях и частоты смертельных исходов. Среди 124 параметров предикторную значимость неблагоприятного прогноза при длительном постковидном синдроме продемонстрировали 20 показателей, отражающие различные демографические, клинические и патогенетические детерминанты.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Несмотря на то что эпидемия новой коронавирусной инфекции признана официально завершенной более двух лет назад, вирус SARS-CoV-2 сохраняется, мутирует, создает новые штаммы и напоминает о себе периодическими всплесками COVID-19. Так в 2025 г. появилась информация о новом штамме вируса SARS-CoV-2 STRATUS (XFG 1), который отличается высокой контагиозностью, быстрым распространением, но характеризуется преимущественно нетяжелым течением по типу острой респираторной вирусной инфекции. Тем не менее особенностью всех штаммов вируса SARS-CoV-2 является развитие длительного постковидного синдрома у 30–80 % больных, перенесших COVID 19, с большим разнообразием симптомов и синдромов, длительность которых может быть от нескольких месяцев до нескольких лет, что значительно ухудшает качество жизни пациентов и оказывает негативное влияние на глобальное здравоохранение [1; 2].
Данные о влиянии длительного постковидного синдрома на смертность и неблагоприятные клинические исходы противоречивы и крайне ограничены, особенно у молодых больных и среднего возраста без отягощенного анамнеза. Так, в Японии было проведено исследование, направленное на оценку избыточной смертности от всех причин у больных новой коронавирусной инфекцией (НКВИ) и после выздоровления [3]. Несмотря на первоначальный успех в снижении избыточной смертности в 2023 г., в Японии наблюдалось увеличение избыточной смертности не только по мере развития пандемии, но с продолжающимся ее повышением после завершения чрезвычайной ситуации. Результаты этого исследования подчеркивают важность постоянного мониторинга избыточной смертности как ключевого показателя динамики общественного здравоохранения. В одном из наблюдательных исследований было показано, что у больных с длительным постковидным синдромом потребность в оказании медицинской помощи после выписки, в том числе госпитализаций, была выше, чем у пациентов без длительных симптомов COVID-19 [4]. Тем не менее в метаанализе 63 контролируемых когортных исследований, охватывающих более 96 млн участников, было обнаружено в течение трех лет наблюдения снижение только общего качества жизни между людьми с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 и длительным постковидным синдромом по сравнению с контрольными группами, без увеличения общей смертности и ургентных госпитализаций [5].
Таким образом, оценка неблагоприятных событий у больных с длительным постковидным синдромом позволит определить вклад этого осложнения НКВИ не только на качество жизни, но и его влияние на прогноз, что дает возможность разработать систему профилактических мероприятий и обосновать алгоритм ведения больных для предупреждения негативных последствий НКВИ.
Материалы и методы исследования
Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом «Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн» (№ 137 от 21.04.2020). До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие. Проведено двухэтапное проспективное клиническое исследование. Первый этап представлял собой одномоментное скрининговое исследование, в котором в течение трех лет с целью выявления больных с длительном постковидным синдромом и его клинических особенностей было скринировано 878 больных, обратившихся амбулаторно спустя три месяца и более после перенесенной НКВИ. Второй этап представлял собой проспективное наблюдательное исследование, в течение которого фиксировались все смертельные события и госпитализации больных, включенных в исследование на втором этапе. На второй этап исследования было включено 305 больных, перенесших НКВИ три месяца назад и более. Больные на втором этапе должны были соответствовать критериям включения и не иметь критериев исключения.
Критерии включения на втором этапе: амбулаторные пациенты, перенесшие НКВИ, подтвержденную по данным теста полимеразной цепной реакции и мазка на коронавирус SARS-CoV-2 давностью более трех месяцев.
Критериями невключения в исследование явились: перенесенная НКВИ давностью менее трех месяцев, наличие острой респираторной вирусной инфекции или пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на НКВИ; острый коронарный синдром, стенокардия, мозговые инсульты и транзиторные ишемические атаки, хроническая сердечная недостаточность в анамнезе и при обращении; тромбоэмболия легочной артерии, хроническое легочное сердце в анамнезе и при обращении; тяжелый пневмофиброз в анамнезе и при обращении, клапанные пороки сердца, тяжелые заболевания печени в анамнезе (хронические гепатиты, циррозы), рак в анамнезе и давностью менее пяти лет, хроническая болезнь почек 4–5-й стадии, в том числе диализ, трансплантация; тяжелые заболевания крови и аутоиммунные заболевания в анамнезе; некомпенсированные нарушения функции щитовидной железы в анамнезе; сахарный диабет 1-го типа; острые воспалительные и инфекционные заболевания, в том числе туберкулез легких в анамнезе; тяжелая деменция и психические расстройства, препятствующие подписанию информированного согласия и контакту с пациентом.
На втором этапе больных разделили на две группы: первую группу составили 200 больных с симптомами длительного постковидного синдрома; вторую группу – 105 пациентов, перенесших НКВИ и не имевших диагностических критериев длительного постковидного синдрома.
Для определения предикторов неблагоприятного прогноза пациентов с длительным постковидным синдромом (n = 200) в конце исследования разделили на две подгруппы в зависимости от прогноза: в первую подгруппу было включено 85 больных, у которых были зарегистрированы неблагоприятные события, во вторую – 115 человек без неблагоприятных событий за период наблюдения с ретроспективной оценкой их характеристик в дебюте второго этапа.
Длительный постковидный синдром определялся согласно критериям Национального института здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании, которые представлены наличием признаков и симптомов, развивающихся во время или после инфекции, соответствующей COVID-19, продолжающиеся более 12 недель при отсутствии других альтернативных диагнозов*.
В исследование включались пациенты при наличии следующих наиболее часто встречающихся симптомов длительного постковидного синдрома по данным метаанализов наблюдательных исследований: постоянная слабость (усталость), одышка при физической нагрузке, когнитивные нарушения, болевой синдром любой локализации, бессонница, наличие симптомов депрессии и тревожности [6; 7].
Всем пациентам, включенным во второй этап исследования, проводилось клиническое, лабораторно-инструментальное обследование при обращении в поликлинику с оценкой данных амбулаторной карты и других медицинских документов.
Исследовали показатели феррокинетики: сывороточное железо, общую железосвязывающую способность крови, концентрацию ферритина, трансферрина в сыворотке крови, коэффициент насыщения трансферрина железом.
Для оценки структурно-функциональных показателей сердца проводилась эхокардиография (ЭхоКГ) на ультразвуковом сканере Vivid S5 (General Electric, США) в соответствии с рекомендациями Американского и Европейского общества ЭхоКГ.
Для оценки выраженности миокардиального стресса определяли концентрацию N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пропептида (Nt-proBNP) в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) ELISA на анализаторе Expert Plus Microplate reader (Biochrom Ltd., Великобритания) с использованием набора реагентов «Nt-proBNP – ИФА – БЕСТ» (Россия, Новосибирск).
Для оценки фильтрационной функции почек определяли концентрацию креатинина и цистатина С в крови, производился расчет СКФ по формуле Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPIcre и CKD-EPIcys) с помощью online-калькулятора, а также соотношение альбумина/белка мочи к креатинину мочи в утренней порции. Концентрацию цистатина С в сыворотке крови определяли методом ИФА ELISA на анализаторе Expert Plus Microplate reader (Biochrom Ltd., Великобритания) с использованием набора реагентов «Цистатин С – ИФА-БЕСТ» («Вектор Бест», Россия, Новосибирск).
Для оценки выраженности неспецифического воспаления определяли в крови фактор некроза опухоли альфа (a-ФНО), интерлейкин-1b методом ИФА с использованием набора реактивов компании АО «Вектор-Бест» (Россия) на анализаторе Lazurite (Dynex Technologies Inc., США).
Для оценки апоптоза определяли концентрацию каспазы-6 методом ИФА с использованием набора реактивов SEA 552Hu компании Cloud-Clone Corp. (США – Китай) на фотометре (ридере) Stat Fax 2100 (Awareness technology, США).
Для интегральной оценки фиброза определяли концентрацию тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1-го типа (TIMP1) методом ИФА с использованием набора SEA 552Hu компании Cloud-Clone Corp. (США – Китай) на фотометре Stat Fax 2100 (Awareness technology, США).
Для определения тревожности и депрессии использовалась «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS).
Для выявления когнитивных нарушений применяли краткую шкалу оценки психического статуса MMSE (Mini Mental State Examination).
Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета программ Statistica 10.0. При проведении статистической обработки данных критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. Проверка нормальности распределения признаков в группах проводилась с использованием критериев Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова. Для количественных признаков, соответствующих закону нормального распределения, производился расчет средних арифметических значений и среднеквадратических отклонений (M ± SD), при распределении, не соответствующем закону нормального распределения, определялась медиана с нижним и верхним квартилем (Med [LQ; UQ]) или 95%-ный доверительный интервал (ДИ). Для качественных признаков были рассчитаны абсолютная частота проявления признака, частота проявления признака в процентах (%). При сравнении количественных показателей применялся критерий Стьюдента, при сравнении показателей, не соответствующих закону нормального распределения, для статистического анализа использовали критерий Манна – Уитни, для качественных – критерий χ2. Для определения наличия взаимосвязи между количественными признаками при нормальном распределении показателей применяли корреляционный анализ Пирсона, между количественными и порядковыми показателями – ранговый корреляционный анализ Спирмена, между качественными признаками – использовали коэффициент взаимной сопряженности А.А. Чупрова. В соответствии с рекомендациями Rea и Parker определяли уровень значимости полученных взаимосвязей: при значении критерия < 0,1 – очень слабая, 0,1 < 0,2 – слабая, 0,2 < 0,4 – средняя, при значении 0,4 < 0,6 – относительно сильная, при значении 0,6 – < 0,8 – сильная, 0,8–1,0 – очень сильная. Для определения отношения шансов (ОШ), относительного риска (ОР) и 95 % ДИ для ОШ и ОР развития впервые выявленной ХСН при длительном постковидном синдроме были составлены таблицы сопряженности 2 × 2, рассчитан χ2 с вычислением достигнутого уровня значимости с поправкой Йетса на непрерывность. За критический уровень статистической значимости нулевых гипотез при оценке взаимосвязи был принят уровень p < 0,05.
Для анализа наступления неблагоприятных событий использовали непараметрический метод Каплана – Мейера с представлением данных в виде графического изображения.
Результаты и их обсуждение
Период наблюдения больных в исследовании составил 24,6 [12, 4; 47, 7] месяца. Средний возраст больных, включенных в исследование, составил 59,6 [31, 3; 64, 7] года. Группы больных с длительным постковидным синдромом и без него статистически значимо не отличались по полу, возрасту, факторам сердечно-сосудистого риска, сопутствующим заболеваниям и постоянно принимаемой терапии, тяжести НКВИ в острый период. Среди 200 больных с длительным постковидным синдромом было выявлено 89 неблагоприятных клинических исходов у 85 (44,5 %) пациентов, в группе пациентов без длительных симптомов COVID-19 среди 105 обследуемых – у 22 (21,0 %) человек зафиксированы 22 события.
Общая смертность в первой группе за 24,6 месяца наблюдения составила 4,5 %, во второй группе – 1,9 % (p = 0,406). В первой группе за весь период наблюдения умерло 9 больных: 2 – внезапная сердечная смерть, один – инфаркт миокарда, один – ишемический инсульт, 2 – терминальная сердечная недостаточность, 2 – онкологические заболевания, один – травма, не совместимая с жизнью. Во второй группе умерло 2 больных: один – цирроз печени, один – внезапная смерть. На рис. 1 представлены кривые наступления смертельных исходов у больных, перенесших НКВИ, по группам обследуемых.
Рис. 1. Кривые выживаемости Каплана – Мейера по группам обследуемых, перенесших НКВИ (n = 305). Примечание: ДПКС – длительный постковидный синдром
Анализ выживаемости не показал статистически значимых различий по частоте наступления смертельных событий между группами (p = 0,252).
В первой группе за весь период наблюдения зарегистрировано 80 госпитализаций (40,0 %): 51 госпитализация связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 14 – с заболеваниями бронхолегочной системы, 9 – с неврологическими проблемами, 6 – прочие. Во второй группе было отмечено 20 госпитализаций (19,0 %): 8 госпитализаций связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 4 – с заболеваниями бронхолегочной системы, 6 – с хирургическими и травматологическими проблемами, 2 – прочие (p = 0,001 между группами). На рис. 2 представлены кривые по частоте и времени наступления госпитализаций у больных, перенесших НКВИ, по группам обследуемых.
Рис. 2. Кривые наступления госпитализаций Каплана – Мейера по группам обследуемых, перенесших НКВИ (n = 305). Примечание: ДПКС – длительный постковидный синдром
Анализ наступления частоты госпитализаций показал статистически значимые различия между группами (p = 0,0004). Определено, что развитие длительного постковидного синдрома у больных, перенесших НКВИ, увеличивает ОР необходимости в госпитализациях в 2,110 раза [95 % ДИ 1,393; 3,193].
Объединенный анализ выживаемости и частоте наступления госпитализаций представлен на рис. 3.
Рис. 3. Кривые выживаемости и наступления госпитализаций Каплана – Мейера по группам обследуемых, перенесших НКВИ (n = 305). Примечание: ДПКС – длительный постковидный синдром
Объединенный анализ выживаемости и наступления госпитализаций показал статистически значимые различия между группами (p < 0,001). Определено, что развитие длительного постковидного синдрома у больных, перенесших НКВИ, увеличивает ОР смерти и необходимости в госпитализациях в 2,197 раза [95 % ДИ 1,481; 3,257].
Для определения предикторов развития неблагоприятных событий (объединенный показатель выживаемости и наступления госпитализаций) при длительном постковидном синдроме больные первой группы были разделены на две подгруппы в зависимости от прогноза, и был проведен ретроспективный сравнительный анализ всех показателей по подгруппам, а также клинических исходов в течение периода наблюдения. При выявлении параметров статистически значимо отличающихся между подгруппами, была оценена их взаимосвязь с развитием неблагоприятных событий.
Среди 200 больных с длительным постковидным синдромом были выявлено 88 неблагоприятных клинических исходов у 85 (42,5 %) пациентов.
В итоге в табл. 1 представлены показатели, статистически значимо отличающиеся между подгруппами, а корреляционный анализ показал их взаимосвязь с неблагоприятным прогнозом. Среди 124 параметров предикторную значимость продемонстрировали 20 показателей. По показателям, не представленным в табл. 1, подгруппы статистически значимо не отличались, либо эти показатели не были связаны со смертельными событиями или госпитализациями.
Таблица 1. Сравнительная характеристика пациентов с длительным постковидным синдромом по подгруппам обследуемых, n = 200
Параметр | Первая подгруппа (НП, n = 85) | Вторая подгруппа (БП, n = 115) | p |
Госпитализация во время НКВИ, абс./% | 56/65,9 | 32/27,8 | < 0,001 |
Поражение легких на рентгенограмме > 45 % во время НКВИ, абс./% | 30/35,3 | 16/13,9 | 0,002 |
Наличие пяти и более симптомов длительного постковидного синдрома, абс./% | 61/71,8 | 48/41,7 | 0,001 |
MMSE 10–28 баллов, абс./% | 21/24,7 | 8/7,0 | 0,002 |
HADS > 7, абс./% | 42/49,4 | 31/27,0 | 0,003 |
ИМТ > 30 кг/м2, абс./% | 34/40,0 | 26/22,6 | 0,013 |
Non-dipper/Night-peaker СМАД, абс./% | 29/34,1 | 13/11,3 | < 0,001 |
ГЛЖ, абс./% | 22/25,9 | 11/9,6 | 0,005 |
CAVI1 > 9, абс./% | 52/61,2 | 35/30,4 | < 0,001 |
TAPSE/СДЛА < 0,8, абс./% | 15/17,6 | 8/7,0 | 0,034 |
СКФцис < 60 мл/мин/1,75м2, абс. | 36/42,4 | 32/27,8 | 0,046 |
a-ФНО > 8,1 пг/мл, абс./% | 18/21,2 | 11/9,6 | 0,036 |
Каспаза 6 > 28,2 пг/мл, абс./% | 42/49,4 | 14/12,2 | < 0,001 |
Nt-proBNP > 125 пг/мл, абс./% | 31/36,5 | 24/20,9 | 0,023 |
TIMP1 > 138 нг/мл, абс./% | 53/62,4 | 28/24,3 | < 0,001 |
ИМ/Инсульт в период наблюдения, абс./% | 10/11,8 | 3/2,6 | 0,022 |
Фибрилляция предсердий, абс./% | 11/12,9 | 4/3,5 | 0,026 |
НТГ/СД 2-го типа, абс./% | 10/11,8 | 4/3,5 | 0,047 |
Анемия, абс./% | 12/14,1 | 5/4,3 | 0,029 |
ХОБЛ/БА, абс./% | 36/42,4 | 27/23,5 | 0,008 |
Примечание: НКВИ – новая коронавирусная инфекция, НП – неблагоприятный прогноз, БП – благоприятный прогноз, MMSE – Mini-mental State Examination, HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale, ИМТ – индекс массы тела, СМАД – суточное мониторирование артериального давления, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, CAVI1 – Cardio-Ankle Vascular Index 1, СКФ – скорость пульсовой волны, ФНО – фактор некроза опухоли, Nt-proBNP – N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пропептида, TIMP1 – тканевый ингибитор матриксных металлопротеиназ 1-го типа, ИМ – инфаркт миокарда, НТГ – нарушение толерантности к глюкозе, СД – сахарный диабет, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, БА – бронхиальная астма.
ОШ и ОР развития неблагоприятного прогноза у больных с длительным постковидным синдромом в зависимости от 20 взаимосвязанных с ним параметров представлены в табл. 2.
Таблица 2. ОШ и ОР развития неблагоприятного прогноза у больных с длительным постковидным синдромом (n = 200)
Параметр | ОШ (95 % ДИ) | ОР (95 % ДИ) |
Госпитализация во время НКВИ, абс./% | 5,009 (2,619–9,636) | 2,368 (1,689–3,297) |
Поражение легких на рентгенограмме > 45 % во время НКВИ, абс./% | 3,375 (1,608–7,146) | 2,537 (1,438–4,579) |
Наличие пяти и более симптомов длительного постковидного синдрома | 3,548 (1,868–6,775) | 1,720 (1,319–2,195) |
MMSE 10–28 баллов | 4,389 (1,718–11,531) | 3,552 (1,586–8,435 |
HADS > 7 баллов | 2,647 (1,405–5,003) | 1,834 (1,239–2,710) |
ИМТ > 30 кг/м2, абс./% | 2,283 (1,180–4,430) | 1,770 (1,122–2,798) |
Non-dipper/Night-peaker СМАД, абс./% | 4,064 (1,853–9,024) | 3,019 (1,623–5,808) |
ГЛЖ, абс./% | 3,302 (1,412–7,837) | 2,706 (1,332–5,693) |
CAVI1 > 9, абс./% | 3,602 (1,917–6,798) | 2,011 (1,434–2,798) |
TAPSE/СДЛА < 0,8, абс./% | 2,867 (1,071–7,846) | 2,537 (1,062–6,320) |
СКФцис < 60 мл/мин/1,75м2, абс. | 1,906 (1,010–3,602) | 1,523 (1,007–2,293) |
a-ФНО > 8,1 пг/мл, абс./% | 2,541 (1,058–6,174) | 2,214 (1,049–4,800) |
Каспаза 6 > 28,2 пг/мл, абс./% | 7,047 (3,318–15,166) | 4,059 (2,349–7,294) |
Nt-proBNP > 125 пг/мл, абс./% | 2,177 (1,107–4,295) | 1,748 (1,077–2,849) |
TIMP1 > 138 нг/мл, абс./% | 5,147 (2,675–9,964) | 2,561 (1,770–3.707) |
ИМ/Инсульт в период наблюдения, абс./% | 4,978 (1,209–23,671) | 4,510 (1,194–20,419) |
Фибрилляция предсердий, абс./% | 4,126 (1,155–16,046) | 3,721 (1,143–13,630) |
НТГ/СД 2-го типа, абс./% | 3,701 (1,017–14,616) | 3,383 (1,016–12,591) |
Анемия, абс./% | 3,617 (1,120–12,355) | 3,248 (1,109–10,347) |
ХОБЛ/БА, абс./% | 2,395 (1,247–4,614) | 1,804 (1,163–2,807) |
Примечание: ОШ – отношение шансов, ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал, НКВИ – новая коронавирусная инфекция, НП – неблагоприятный прогноз, БП – благоприятный прогноз, MMSE – Mini-mental State Examination, HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale, ИМТ – индекс массы тела, СМАД – суточное мониторирование артериального давления, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, CAVI1 – Cardio-Ankle Vascular Index 1, СКФ – скорость пульсовой волны, ФНО – фактор некроза опухоли, Nt-proBNP – N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пропептида, TIMP1 – тканевый ингибитор матриксных металлопротеиназ 1-го типа, ИМ – инфаркт миокарда, НТГ – нарушение толерантности к глюкозе, СД – сахарный диабет, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, БА – бронхиальная астма.
В нашем исследовании за 24,6 месяца наблюдения у больных с длительным постковидном синдромом общая смертность составила 4,5 % и статистически значимо не отличалась от таковой у пациентов, перенесших НКВИ, без длительных симптомов COVID-19. Но частота госпитализаций, как и объединенный показатель со смертностью, были статистически значимо выше при длительном постковидном синдроме: 40,0 против 19,0 % (p = 0,001 для обоих показателей). Следует отметить, что в нашем исследовании были преимущественно лица трудоспособного возраста, и мы принципиально не включали в исследование больных с отягощенным сердечно-сосудистым, неврологическим и онкологическим анамнезом, которые могут оказывать самостоятельное негативное влияние на прогноз. Так, в одном из реестров сердечно-сосудистых заболеваний Американской кардиологической ассоциации COVID-19 среди выживших больных после госпитализации COVID-19 с длительным постковидным синдромом было определено увеличение ОР сердечно-сосудистых событий (ОР, 1,28 [95 % ДИ 1,19–1,37]), которое исчезало после корректировки на наличие ССЗ в анамнезе (ОР, 0,97 [95 % ДИ 0,89–1,04]) [8]. Мы также в исследование не включали больных, у которых в острый период НКВИ развились острые сердечно-сосудистые и церебральные заболевания, что могло бы быть причиной неблагоприятного прогноза. Этому есть подтверждении в исследовании K. Tateishi et al., которые продемонстрировали, что сердечно-сосудистые и цереброваскулярные осложнения, связанные с госпитализацией в связи с COVID-19, оказались значительным независимым предикторами долгосрочной смертности, особенно ишемический инсульт [9].
В наблюдательном исследовании V. Vera-Delgado et al. у больных с длительным постковидным синдромом в течение 10 месяцев наблюдения показатели общей смертности были выше, чем в нашем исследовании, и составили 25,6 %, что соответствовало показателю летальности, как и во время госпитализации с COVID-19 [10]. Такой высокий показатель смертности в данном исследовании был связан с тем, что авторы включили в анализ всех больных, которые умерли как во время индексной госпитализации с НКВИ, так в течение 10 месяцев. Если не учитывать летальность, то смертность в этом исследовании значительно ниже – 11,4 %, но тем не менее превышает наши показатели. Авторы продемонстрировали, что значения NT-proBNP > 503,5 пг/мл [ОР = 5,00 (3,06–8,19)], мочевина > 37 мг/дл [ОР 3,51 (1,97–6,27)], когнитивные нарушения [ОР = 1,96 (1,30–2,95)], рак [ОР = 2,23 (1,36–3,68)] и лейкоциты > 6330/мм3 [ОР = 1,64 (1,08–2,50)] были независимо связаны с долгосрочной смертностью у больных с длительным постковидным синдромом в течение 10 месяцев наблюдения. В другом наблюдательном исследовании показано, что у больных с длительным постковидным синдромом в течение года наблюдения высокие концентрации тропонина T и NT-proBNP значительно увеличивают ОР больших сердечно-сосудистых событий (ОР 2,85, 95 % ДИ 1,58–5,12), общей смертности (ОР 5,56, 95 % ДИ 1,51–20,52), сердечно-сосудистой смерти (ОР 11,97, 95 % ДИ 1,40–102,46), и повторных госпитализаций, связанных с ССЗ (ОР 2,38, 95 % ДИ 1,28–4,42) [11].
Выявленные нами предикторы объединенного показателя неблагоприятного прогноза согласуются с данными литературы по ряду параметров. В нашем исследовании также возрастание концентрации в крови NT-proBNP более 125 пг/мл увеличивает ОР неблагоприятного прогноза в 1,75 раза. Мы предполагаем, что это связано с развитием ХСН после НКВИ, которая из-за многообразия симптомов длительного постковидного синдрома часто остается нераспознанной. В метаанализе 5 ретроспективных исследований с включением 1 628 424 больных, перенесших инфекцию COVID-19, была дана оценка риска развития ХСН [12]. Выздоровевшие пациенты с COVID-19 показали повышенный риск развития впервые выявленной ХСН (ОР 1,90, 95 % ДИ: 1,54–3,24, p < 0,0001, I2 = 96,5 %).
Мы подтвердили данные S. Yokoyama et al., что гипергликемические состояния (нарушение толерантности к глюкозе и СД 2-го типа) связаны с замедлением выздоровления после длительного COVID-19 [13], в нашем исследовании – с ухудшением прогноза. В одном из наблюдательных исследований было обнаружено, что гликемические состояния и пожилой возраст старше 60 лет являются предикторами неблагоприятных почечных исходов с развитием ХБП у каждого третьего больного при длительном постковидном синдроме [14]. В нашем исследовании СКФцис < 60 мл/мин/1,75м2 увеличивает ОР неблагоприятного прогноза в 1,52 раза.
По данным C. Sabanoglu et al. у 916 больных с длительным постковидным синдромом после многомерного анализа NT-proBNP, высокочувствительный тропонин I, ХБП, фибрилляция предсердий, СД и ИБС были независимыми предикторами в летальности в больнице и однолетней смертности [15].
В нашем исследовании развитие в период наблюдения ССЗ увеличивало ОР смерти и госпитализаций в 4,5 раза, наличие фибрилляции предсердий – в 3,7 раза, НТГ/СД – в 3,4 раза у больных с длительным постковидным синдромом. Такого же мнения придерживаются G. Krljanac et al. [16]. Авторы отметили, что пациенты с длительным постковидным синдромом и сердечно-сосудистыми проявлениями госпитализировались чаще (88,5 против 75,9 %) и дольше находились в больнице. Исследователи предполагают, что развитие ССЗ после НКВИ взаимосвязано с ремоделированием сердца. При ЭхоКГ статистически значимо изменялась не только фракция выброса левого желудочка, но и продольная деформация в субэндокардиальном и внутримиокардиальном слоях (–20,9 против –22,0 % и –18,6 против–19,95 %). Кроме того, результаты патологического магнитного резонанса наблюдались у 58,2 % группы пациентов с длительным COVID-19 и сердечно-сосудистыми проявлениями. В нашем исследовании неблагоприятный прогноз у больных с длительным постковидным синдромом ассоциировался с ГЛЖ и дисфункцией правого желудочка. Мы предполагаем, что процесс ремоделирования миокарда с формированием гипертрофического фенотипа с фиброзом начинается уже острый период НКВИ независимо от уровня АД. Так, в систематическом обзоре R. Almamlouk et al. (2022), в котором при патолого-анатомическом исследовании сердечно-сосудистой системы больных, умерших от НКВИ, было найдено, что гипертрофия миоцитов (медиана: 69,0 %; IQR 46,8–92,1 %) и фиброз (медиана: 35,0 %; IQR 35,0–90,5 %) являются наиболее распространенными хроническими изменениями [17]. Данные метаанализа 21 наблюдательного исследования подтверждают связь постковидного синдрома с увеличением ММЛЖ и правожелудочковой дисфункцией [18].
В настоящее время исследуются долгосрочные осложнения COVID-19 у пациентов с анемией, так как эти осложнения могут играть решающую роль в прогнозировании прогноза пациентов. Имеются сведения, что больные с анемией подвержены более высокому риску развития не только тяжелого течения COVID-19, но и неблагоприятных клинических исходов при длительном постковидном синдроме из-за нескольких способствующих патофизиологических механизмов, включающих тромботические, геморрагические и аутоиммунные [19].
Таким образом, многогранный характер длительного постковидного синдрома, выявляя широкий спектр симптомов, различные факторы риска и сложное взаимодействие физиологических механизмов, лежащих в основе этого состояния, оказывают значительное давление на системы здравоохранения в целом, не только за счет снижения качества жизни и увеличения дней нетрудоспособности, но и в результате больших затрат на госпитализации, а также смертности больных в трудоспособном возрасте [20]. Борьба с длительным постковидным синдромом требует целостной стратегии управления, которая бы объединяла клиническую помощь, социальную поддержку и политические инициативы. Выводы подчеркивают необходимость расширения кооперации в области исследований и планирования здравоохранения для решения сложных проблем длительного постковидного синдрома.
Ограничениями данного исследования являются отсутствие информации о клинических исходах при длительном постковидном синдроме в зависимости от возраста, при отягощенном анамнезе, что требует большего объема включенных больных и их данных до НКВИ.
Выводы
Период наблюдения больных в исследовании составил 24,6 [12, 4; 47, 7] месяца. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 59,6 [31, 3; 64, 7] года. Среди 200 больных с длительным постковидным синдромом было выявлено 89 неблагоприятных клинических исходов у 85 (44,5 %) пациентов, в группе без длительных симптомов COVID-19 среди 105 обследуемых – у 22 (21,0 %) человек зафиксированы 22 события. Анализ выживаемости не показал статистически значимых различий по частоте наступления смертельных событий между группами. Частота госпитализаций, а также частота объединенного показателя смертности и госпитализаций были статистически значимо выше в группе больных с постковидным синдромом. Определено, что развитие длительного постковидного синдрома у пациентов, перенесших НКВИ, увеличивает ОР необходимости в госпитализациях в 2,110 раза, смертельных исходов и госпитализаций – в 2,197 раза. Предикторную ценность в развитии неблагоприятного прогноза у больных с длительным постковидным синдромом продемонстрировали показатели, отражающие тяжелое течение НКВИ в острой фазе, полисимптомность длительного постковидного синдрома, симптомы тревоги, депрессии, нарушения когнитивных функций, наличие определенной коморбидной патологии и факторов риска без отягощенного анамнеза до верификации длительного постковидного синдрома, ремоделирование сердца и артерий с высоким миокардиальным стрессом, неспецифичеcкое воспаление, фиброз и апоптоз.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Вклад авторов:
Масалкина О.В. – проведение исследования, работа с данными, анализ, подготовка и написание черновика рукописи.
Козиолова Н.А – определение концепции, методология, визуализация, пересмотр и редактирование рукописи.
Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируют надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.
Ограничение исследования. Проведенное исследование соответствует стандартам Хельсинкской декларации, одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» (№ 137 от 21.04.2020). Перед началом исследования все пациенты подтвердили свое участие письменным информированным добровольным согласием.
* NICE. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. Published March 11, 2022. Accessed January 19 (2024), available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ng188/resources/covid19-rapid-guideline-managing-the-longterm-effects-of-covid19-pdf-51035515742.
Об авторах
О. В. Масалкина
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Автор, ответственный за переписку.
Email: omasalkina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0006-3364-0591
кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней и кардиологии
Россия, ПермьН. А. Козиолова
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Email: omasalkina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7003-5186
доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней и кардиологии
Россия, ПермьСписок литературы
- Pretorius E., Venter C., Laubscher G.J. et al. Prevalence of symptoms, comorbidities, fibrin amyloid microclots and platelet pathology in individuals with Long COVID/Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC). Cardiovasc Diabetol. 2022; 21 (1): 148. doi: 10.1186/s12933-022-01579-5
- Cabrera Martimbianco A.L., Pacheco R.L., Bagattini Â.M. et al. Frequency, signs and symptoms, and criteria adopted for long COVID-19: A systematic review. Int J Clin Pract. 2021; 75 (10): e14357. doi: 10.1111/ijcp.14357
- Devanathan G., Chua P.L.C., Nomura S. et al. Excess mortality during and after the COVID-19 emergency in Japan: a two-stage interrupted time-series design. BMJ Public Health. 2025; 3 (1): e002357. doi: 10.1136/bmjph-2024-002357
- Huang L., Li X., Gu X. et al. Health outcomes in people 2 years after surviving hospitalisation with COVID-19: a longitudinal cohort study. Lancet Respir Med. 2022; 10 (9): 863–876. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00126-6
- Franco J.V.A., Garegnani L.I., Metzendorf M.I. et al. Post-covid-19 conditions in adults: systematic review and meta-analysis of health outcomes in controlled studies. BMJ Med. 2024; 3 (1): e000723. doi: 10.1136/bmjmed-2023-000723
- Rahmati M., Udeh R., Yon D.K. et al. A systematic review and meta-analysis of long-term sequelae of COVID-19 2-year after SARS-CoV-2 infection: A call to action for neurological, physical, and psychological sciences. J Med Virol 2023; 95: e28852. doi: 10.1002/jmv.28852
- Fernandez-de-Las-Peñas C., Notarte K.I., Macasaet R. et al. Persistence of post-COVID symptoms in the general population two years after SARS-CoV-2 infection: A systematic review and meta-analysis. J Infect. 2024; 88 (2): 77–88. doi: 10.1016/j.jinf.2023.12.004
- Fakhraei R., Song Y., Kazi D.S. et al. Social vulnerability and long-term cardiovascular Outcomes after Covid-19 hospitalization: an analysis of the American heart association Covid-19 registry linked with medicare claims data. J Am Heart Assoc. 2025; 14 (7): e038073. doi: 10.1161/JAHA.124.038073
- Tateishi K., Hmoud H., De Gregorio L. et al. Impact of cardiac and cerebrovascular complications during hospitalization on long-term prognosis in patients with Covid-19. Am J Cardiol. 2023; 209: 114–119. doi: 10.1016/j.amjcard.2023.09.083
- Vera-Delgado V., García-Rosado D., Pérez-Hernández O. et al. Mortality and Covid infection: predictors of mortality 10 months after discharge. Diseases. 2024; 12 (6): 123. doi: 10.3390/diseases12060123
- Yao S., Xu Y., Xie Z. et al. Long-term cardiovascular outcomes in patients with omicron Covid-19 and elevated cardiac biomarkers: a prospective multicenter cohort study in Shanghai, China. Int J Med Sci. 2025; 22 (12): 2884–2895. doi: 10.7150/ijms.112282
- Zuin M., Rigatelli G., Roncon L. et al. Risk of incident heart failure after Covid-19 recovery: a systematic review and meta-analysis. Heart Fail Rev. 2023; 28 (4): 859–864. doi: 10.1007/s10741-022-10292-0.
- Yokoyama S., Honda H., Otsuka Y. et al. Importance of blood glucose measurement for predicting the prognosis of long Covid: A retrospective study in Japan. J Clin Med. 2024; 13 (14): 4099. doi: 10.3390/jcm13144099
- Assis G.M.C.C., Veiga I.G.D., Reis R.N.R. et al. Investigation of renal function in patients with long COVID in the Amazon region: a cross-sectional study. BMC Infect Dis. 2025; 25 (1): 202. doi: 10.1186/s12879-024-10355-7
- Sabanoglu C., Inanc I.H., Polat E. et al. Long-term predictive value of cardiac biomarkers in patients with COVID-19 infection. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022; 26 (17): 6396–6403. doi: 10.26355/eurrev_202209_29667
- Krljanac G., Asanin M., Viduljevic M. et al. Cardiovascular manifestations of patients with long Covid. Diagnostics (Basel) 2025; 15 (14): 1771. doi: 10.3390/diagnostics15141771
- Almamlouk R., Kashour T., Obeidat S. et al. COVID-19-Associated cardiac pathology at the postmortem evaluation: a collaborative systematic review. Clin Microbiol Infect 2022; 28 (8): 1066–1075. doi: 10.1016/j.cmi.2022.03.021
- Rahmati M., Koyanagi A., Banitalebi E. et al. The effect of SARS-CoV-2 infection on cardiac function in post-COVID-19 survivors: A systematic review and meta-analysis. J Med Virol. 2023; 95 (1): e28325. doi: 10.1002/jmv.28325
- Abu-Ismail L., Taha M.J.J., Abuawwad M.T. et al. COVID-19 and anemia: what do we know so far? Hemoglobin 2023; 47 (3): 122–129. doi: 10.1080/03630269.2023.2236546
- Song X., Song W., Cui L. et al. A Comprehensive review of the global epidemiology, clinical management, socio-economic impacts, and national responses to long COVID with future research directions. Diagnostics (Basel) 2024; 14 (11): 1168. doi: 10.3390/diagnostics14111168
Дополнительные файлы